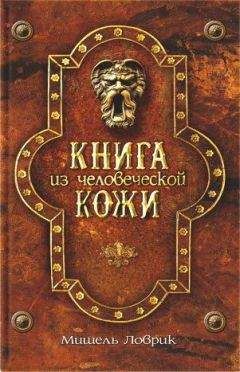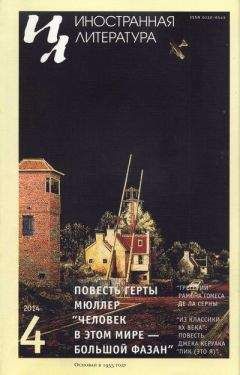Но колоритные лекари с бутылочками толченых многоножек — не говоря уже о моих тайных скетчах — так и не смогли восстановить в глазах родителей мой прежний образ perfettina. Искалеченная нога — одно дело, но именно ухудшившееся поведение моего мочевого пузыря сделало меня сиротой в их сердцах. Он всегда доставлял мне неудобства, но после того, как я стала калекой, мой мочевой пузырь положительно сошел с ума. Теперь прежние проблемы казались мне не стоящими выеденного яйца.
В тело их дочери вселилась калека. Должно быть, мои родители восприняли это как оскорбление памяти прежней perfettina, и поэтому они не смогли перенести свою любовь на ту, что узурпировала ее место, ковыляя в хитроумных приспособлениях, подвешенных на ремнях, как какая-нибудь сельскохозяйственная машина. Да еще в Венеции — этом сказочном городе, ничуть не похожем на скотный двор! Однажды я случайно услышала, как графиня Фоскарини советовала матери отправить меня в сельский дом, где я могла бы беззаботно щелкать орешки на завалинке, или в одно из этих разваливающихся на части заведений на Лидо, где состоятельные родители прятали от общества своих умственно отсталых детей.
И тогда я поняла, что в глазах людей, подобных Чиаре Фоскарини, уродство превращает вас в идиотов. Я опустила взгляд на рисунок, лежавший у меня на коленях. И действительно, на этих карандашных набросках меня, девятилетнюю девочку, засунули в крошечную коляску для новорожденных. И даже когда я выбиралась из нее на другую страницу, все равно там представала жалкая калека, смешно и нелепо ковыляющая на своих кривых ножках.
Видите, я вновь говорю о Марчелле-калеке в третьем лице, даже о нарисованной собственными руками. Потому что иногда и мне удавалось отстраниться от изуродованного тела Марчеллы, и тогда я видела, как perfettina превращается в povera creatura.[46] Как и в любой сказке, у меня возникало головокружительное ощущение падения, которое лучше всего передают вертикальные линии на заднем плане, идущие в одном направлении.
Говорят же, что калеки — это порождения дьявола.
Но своим уродством я, естественно, была обязана Мингуилло. В те дни я обыкновенно рисовала его в виде лишенной шерсти черной собаки, но только сзади, так что лица его не было видно.
Только один Пьеро не собирался сдаваться, настойчиво советуя моей матери «приструнить мальчишку». Он угрюмо покачивал головой и мрачно ронял:
— В следующий раз все может закончиться гораздо хуже.
Но мои родители честно старались забыть, почему я стала калекой, иначе неизбежно встал бы вопрос — а что они сделали, чтобы защитить меня? Хуже всего было то, что народная мудрость гласила: любое создание — даже Мингуилло — не может быть зачато без прямого содействия его родителей, и все его будущие пороки гнездятся в их зародышевой плазме. Подобная нелицеприятная мысль приводила моих родителей в ужас, и они усиленно гнали ее от себя. В конце концов им удалось убедить себя, и они никогда не возражали посетителям, утверждавшим, что я уже родилась калекой и что уродство с рождения было неотъемлемой частью моей натуры.
Мой карандаш начал обнажать страх в глазах людей, смотревших на меня — на меня, беззащитное создание, неспособное внушить ужас кому бы то ни было. Даже мои волосы и те были мягкими, как цыплячий пух. Хрящи моего носа просвечивали на солнце. Но, как я начала понимать, именно это и пугало людей: создания, которые заведомо слабее их, и встречающиеся реже, чем им подобные. Я рисовала карикатуры с элегантными бабуинами, глаза и хвосты которых искажал страх и которые удирали сломя голову от крошечной мышки с моими чертами лица, передвигающейся в инвалидной коляске.
В уединении своей комнаты я рисовала восхитительные сцены: вот я убегаю с цирковой труппой и становлюсь Примой Уродства. В Венеции гиганты, карлики и бородатые женщины пользовались оглушительным успехом. Эти отклонения от нормы вызывали жгучий интерес, смешанный с отвращением, — и приносили недурной доход. Люди готовы были платить звонкой монетой за возможность лицезреть тех, кто резко отличается от них.
Но вот незначительное увечье — о, как раз оно, как я начала понимать на собственном опыте, способно навлечь на вас лишь позор и забвение. Карандаш мой порхал по листу бумаги со все возрастающим бесстрашием, зато жизнь моя продолжала усыхать. Я почти все время проводила в четырех стенах своей комнаты. Экскурсии в инвалидном кресле ограничивались самыми отдаленными и бедными районами города. Мои родители не могли позволить себе попасть в неловкое положение из-за такой дочери, в какую превратилась я. Знакомые моих родителей, разумеется, прекратили лелеять надежды женить своих сыновей на мне в тот же день, когда первый доктор застегнул на мне великолепные доспехи уродства.
Вероятно, уже тогда в глазах окружающих я наполовину превратилась в монахиню: бесполое, неуклюжее, едва переставляющее ноги создание. Физическое увечье, как я вскоре обнаружила, затмевает все остальные различия — пол, расовую принадлежность и возраст. Уродство и увечье живут в другом королевстве, которого сторонятся и опасаются так, как если бы несчастье было заразно.
Тем не менее я не превратилась в бессловесную, на все согласную жертву, которую видели во мне родители. Но они хотели, чтобы я стала такой, поэтому я притворялась, чтобы не обижать их. По большей части я старалась не выходить из своей комнаты, читая книги из библиотеки Палаццо Эспаньол и рисуя копии портретов во дворце, которые по одному приносил мне добряк Джанни. Я вела дневник. Я рисовала, много и часто, но втайне ото всех.
И, чтобы обрести некое подобие душевного спокойствия, я завершила процесс, начатый моими родителями: разделилась на две части. Внешне я была покорной, как послушница. А внутри меня постепенно набирало силу дерзкое и строптивое создание, которое не собиралось смиряться со своими ограниченными способностями. Чем более пассивной и вялой я казалась, тем сильнее зрела во мне решимость изменить если не свое тело, что представлялось невозможным, то свое положение.
Мингуилло наблюдал за моим кажущимся смирением с видимым удовлетворением.
Но о том, что происходит у меня внутри, Мингуилло знал не больше той безволосой собаки, которую я рисовала сзади.
О да, он знал, как сделать мне больно, видел, как я плачу, когда железные зубы кожаной сбруи впивались мне в кожу. Но такие примитивные эмоции собаки могут усвоить на примере других собак.
Я, напротив, обрела чуть ли не дар предвидения. Мне доставляло невыразимое удовольствие сознавать, что я строю собственные планы, о которых Мингуилло не имеет ни малейшего представления.
Я более не была perfettina для своих родителей: и они перестали быть для меня теми родителями, какими были когда-то. Но вместо них у меня был Пьеро. И Анна. И Джанни.
И еще у меня будет другая любовь. В один прекрасный день она поселится у меня в сердце и навсегда убережет меня от жестокости. Несмотря ни на что, я почему-то нисколько не сомневалась в этом.
Мингуилло Фазан
Надеюсь, что не прошу слишком многого, предлагая любезному читателю сосредоточиться… пожалуйста. Вот так. Если стиль и характер моих излияний и не произвели на вас поначалу особого впечатления, то вскоре вы все-таки будете ими очарованы. Я и сам на это надеюсь.
Вскоре после несчастного случая с Марчеллой отец мой вновь отплыл в Арекипу (название которой, по странному совпадению, на языке индейцев кечуа означает «Да, останься»).
Впоследствии моя мать объясняла, что, если отец попробует вернуться вновь, его запрут внутри элегантных стен дома настоятеля на Лазаретто Веккио, откуда он с тоской будет взирать на недоступные для него виды Венеции. Дескать, он хочет избежать длительного карантина по случаю той разновидности оспы, которая в данный момент опустошает побережье Средиземного моря.
— Ну и, разумеется, он нужен в Арекипе. Всем известно, что испанским factores[47] доверять нельзя, — говорила мать своим подругам, поглаживая кончиками пальцев серебряную рамку картины. Тем не менее по Гранд-каналу поползли нехорошие слухи.
Что такое? Читатель вопросительно изгибает бровь? Он хочет знать: то ли моя мать настолько тупа, то ли наивна до абсурда? Да, пожалуй, и то, и другое будет верно. Хотя в данном случае она просто не желала ничего знать, как мне представляется. В конце концов, она ведь не испытывала недостатка в мужьях.
Cicisbeo[48] моей матери, Пьеро Зен, каждый вечер ужинал за нашим столом. Ежедневно он присылал ей обязательный букет цветов, в лепестках которых торчал листок с очередным слащавым сонетом. Он преуспел в исполнении своего долга, который заключался в том, чтобы держать для матери зеркало, в котором остальные читали: «Любуйтесь моей прекрасной госпожой, восхитительным объектом моей страсти».
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](https://cdn.my-library.info/books/187346/187346.jpg)